 Ай, дуду-дуду-дуду,
Ай, дуду-дуду-дуду,
Сидит ворон на дубу.
Он играет во трубу,
Он играет во трубу,
Во серебряную.
Труба точеная,
Позолоченная,
Песня ладная,
Сказка складная.
Жили-были царь с царицей. Родился у них мальчик, да такой крепкий – богатырь, да и только. Мать с отцом не нарадуются – защитник растет, защитит землю родную от врага лютого, охочего до чужого добра. Нарекли его Иваном, а то как же – имя-то это испокон веков по роду передавалось. Растет богатырь не по дням, а по часам, да вот беда – сила-то все прибывает, не справляется с ней дитятко.
Чего ни коснется – все ломается; сядет ли на стул, тот всеми ножками в разные стороны разъедется; а кроватки-то из чего только ни делали, да все без толку, хорошо, если одну ночь продержится, стоит дитю с боку на бок перевернуться и на тебе – на полу к утру лежит Ванечка. Пришлось каменных дел мастеров звать, чтобы из камня цельного да гранитного ему и стул, и кровать, и стол вырубать.
 Ну а постарше стал, ему бы со сверстниками побегать, поиграть, да куда там – кто ж с таким играть будет: тут не носы разбиваются, а кости трещат. Вот так один он все больше рос, по полям, по лугам гулял — птичек слушать любил. Зато где бревна таскать надо, да запруду прудить, он всегда рад помочь был. «Добрая душа, наш Иван-царевич» — говорили люди про него. А царица извелась вся: как это так царевич-то все больше с народом простым якшается, в царских-то покоях и не бывает почти. Вот она и стала к царю приставать, чтобы тот для сына занятие достойное нашел – царское. Ну а какое ему занятие найти – на охоту взять с собой, так ведь ни одной уж лошади он хребет переломил, сказал, что больше не сядет ни на одну, понапрасну животинку губить не станет. Жалостливый он был, любое существо живое жалел. А пока царь с царицей думали, чем бы им дитя свое достойным занять, Иван-царевич, сам себе применение нашел: камни тесать да перетаскивать для построек всяких, ловко это получалось у него. Дак ведь опять – не царское это занятие, камни-то ворочать. Воеводой бы ему стать – да коня не подобрать, а пешим конными командовать – не с руки это. В пехоту царевича не пошлешь – опять не по-царски получается. Да и сам Иван-царевич тяготиться бременем своим нелегким стал, ему бы не царским сыном родиться – развернулся бы он тогда, нашел бы своей силушке применение.
Ну а постарше стал, ему бы со сверстниками побегать, поиграть, да куда там – кто ж с таким играть будет: тут не носы разбиваются, а кости трещат. Вот так один он все больше рос, по полям, по лугам гулял — птичек слушать любил. Зато где бревна таскать надо, да запруду прудить, он всегда рад помочь был. «Добрая душа, наш Иван-царевич» — говорили люди про него. А царица извелась вся: как это так царевич-то все больше с народом простым якшается, в царских-то покоях и не бывает почти. Вот она и стала к царю приставать, чтобы тот для сына занятие достойное нашел – царское. Ну а какое ему занятие найти – на охоту взять с собой, так ведь ни одной уж лошади он хребет переломил, сказал, что больше не сядет ни на одну, понапрасну животинку губить не станет. Жалостливый он был, любое существо живое жалел. А пока царь с царицей думали, чем бы им дитя свое достойным занять, Иван-царевич, сам себе применение нашел: камни тесать да перетаскивать для построек всяких, ловко это получалось у него. Дак ведь опять – не царское это занятие, камни-то ворочать. Воеводой бы ему стать – да коня не подобрать, а пешим конными командовать – не с руки это. В пехоту царевича не пошлешь – опять не по-царски получается. Да и сам Иван-царевич тяготиться бременем своим нелегким стал, ему бы не царским сыном родиться – развернулся бы он тогда, нашел бы своей силушке применение.
А тут сон ему дивный приснился: вот лежит он под деревом, да таким, что до неба самого растет. На суку толстом старый ворон сидит — на него глядит. Да и говорит ему человечьим языком: «Что, Ванюша, от силушки своей маешься, применить не можешь достойно?.. Подсоблю, коли послушаешь меня, да все выполнишь, как скажу тебе». А Иван-царевич рад любого послушать, кто совет бы ему дельный дал. Надоело ему в пол силы жить, да с оглядкою — как бы чего не сломать, да не по-царски поступить. Ему родителей огорчать тяжело было – любил он их всем сердцем. Видел он, что иногда стыдятся они за него перед князьями да боярами, которые рады были посудачить о нем: царский сын, а замашки простого смерда, ну а о манерах и говорить не приходилось – увалень увальнем, таких еще поискать надо.
Вот и говорит ворон ему, что собираться ему в путь-дорогу пора пришла – на белый свет посмотреть, да поучиться уму-разуму, тогда и силу свою познает, и справляться с ней научится. А куда идти-то, в какую сторону? Да это и не важно – любая сторона чему-то научить может. Проснулся Иван-царевич и решил воронов наказ выполнить. Долго уговаривал отца-мать в дорогу его отпустить, да одного, да без царских почестей. Обещал целым и невредимым вернуться, как только с силой своей совладать сможет. Погоревали они, да отпустили, благословив на дорогу. Ничего с собой Иван-царевич брать не стал – ни денег, ни оружия, да и оделся он в одежды самые простые, чтобы никого не смущать видом царским.
Долго ли коротко ли шел Иван-царевич, да пришел к морю синему. А берег-то высокий, да видать далёко. А в дали дальней море синее с небом лазоревым так прям и сливаются, не поймешь – где море кончается, а где небо начинается. Дивится Иван-царевич, впервые он море-то увидал, похоже на поля-луга в его царстве, да только вот как будто небо внизу оказалось. Долго ли стоял он так завороженный, да только кто-то его стал за рукав тянуть. Глянул он, а рядом старичок стоит, едва до пояса достает. «Что, Ванюша, так и будешь истуканом стоять? Пойдем – гостем будешь, коли дальше идти надумаешь, сыном будешь, коли остаться решишь». Откуда он имя-то знает и…  как-то на ворона немного старичок похож, что приснился ему во сне. Чудно! Стали спускаться они по тропочке едва заметной, которая в пещеру их привела. Пещера-то как раз посередине спуска была, еще ровно столько пройти и на песчаный откос попадешь, по которому камни разбросаны. Видно во время шторма их катают волны с места на место – они такие все круглые да гладкие. А в пещере темно после света божьего, едва разглядеть что можно: вот стол выдолблен прямо из скалы, а рядом скамья тоже каменная, дальше потолок опускался, и в стене ниша была, в ней широкая такая лежанка была из камня выдолблена – человека три свободно улягутся.
как-то на ворона немного старичок похож, что приснился ему во сне. Чудно! Стали спускаться они по тропочке едва заметной, которая в пещеру их привела. Пещера-то как раз посередине спуска была, еще ровно столько пройти и на песчаный откос попадешь, по которому камни разбросаны. Видно во время шторма их катают волны с места на место – они такие все круглые да гладкие. А в пещере темно после света божьего, едва разглядеть что можно: вот стол выдолблен прямо из скалы, а рядом скамья тоже каменная, дальше потолок опускался, и в стене ниша была, в ней широкая такая лежанка была из камня выдолблена – человека три свободно улягутся.
— Ну вот, не царские палаты, но жить можно, — сказал старик.
— Да по мне это самое лучшее жилище, какое я видел, — сказал Иван-царевич, — И не сломаешь ничего, — тихо добавил он себе под нос, но старик его услышал.
— А ты, Ванюша, не горюй, силушку мы твою одолеем, это не самое сложное, что сделать нам предстоит.
— А ты, дедушка, никак поджидал меня?
— Да поджидал, родимый, знал, что пригожусь…
— Да как же ты узнал обо мне?!
— Ну, человек – не иголка, а особливо, ежели он царский сын, да такой необычный, как ты…
— Увалень увальнем…
— А разве не так? Ты не серчай, говорю же тебе – это просто поправить, помогу, затем и позвал, когда вороном во сне явился. Нам, Ванюша, с тобой… ой как много надо… три поля надо вспахать, да засеять, да урожай собрать. А это куда как сложнее будет.
— Да какие еще поля, дедушка? Тут, ведь, одни камни, как пахать-то?
— Я о других полях говорю, о тех, что внутри каждого человека есть, только часто о них люди и не задумываются – вот и растет там бурьян всякий вперемежку с дорогим зерном. А то и вовсе одни камни голые на почве каменистой… Так вот:
три, значит поля – поле силы, поле любви и поле мудрости. Они в равновесии должны быть, а ежели что в человеке перевешивает, то делает его как бы немного кривым, когда одна рука длиннее другой. Вот у тебя немного перекос получился — не то, чтобы в тебе только сила была, но она так и брызжет из тебя, как сама по себе живет. Ты меры ей не знаешь и… боишься ее. Надо перво-наперво выявить ее во всю мощь, познакомиться с ней, принять ее и полюбить. Ну да ладно. Вот поешь с дороги да и спать ложись. Вона лежанка-то, тебе в пору придется.
— А ты, дедушка, где спать будешь?
— Обо мне не беспокойся, я в последнее время не очень-то спать охоч. Да и времени нам – старикам не шибко много отпущено. Жаль терять его: как водичка из пригоршни утекает по капелькам, коли просто держать. А надо каждую капельку в дело применить. Да и не разглядел ты еще мою пещерку-то как следует, а она не так проста, как кажется. Ну, утро вечера мудренее. Отдыхай да сны поглядывай, они на новом месте могут и удивить…
 Лег Иван-царевич да как провалился, видать – здорово устал. Только как-то вдруг из темного светлеть что-то стало – расплывчатое такое, да потихоньку это светлое в фигурку стало лепиться… вот и стан стройный обозначился, и руки, словно крылья лебединые и… очи синие – посмотришь – так и растаешь, как снег в проруби, а косы-то – вьются волнами золотыми, словно водичка в закатных лучах… «Ванечка… Ванечка…» голосок-то нежный такой, протяжный… как из нутра идет.
Лег Иван-царевич да как провалился, видать – здорово устал. Только как-то вдруг из темного светлеть что-то стало – расплывчатое такое, да потихоньку это светлое в фигурку стало лепиться… вот и стан стройный обозначился, и руки, словно крылья лебединые и… очи синие – посмотришь – так и растаешь, как снег в проруби, а косы-то – вьются волнами золотыми, словно водичка в закатных лучах… «Ванечка… Ванечка…» голосок-то нежный такой, протяжный… как из нутра идет.
— Ванюша! Вставать пора, — голос погрубел, осип, — Разоспался ты, милок. Чай, сон какой увидал, что просыпаться неохота?
Сел Иван-царевич поперек лежанки, а ноги-то до края едва достают. Трясет головой, застыдился он перед стариком, засмущался, сон свой вспоминая.
А тот уже хлопочет вовсю, на стол накрывает.
— Ты, Ванюша, иди – окунись в колодце-то. Вона — видишь? – проем в скале… Туда протиснись, там и полотенец для тебя есть.
Вот это да! Как же он вчера не заметил проем-то? Он точно все вчера осмотрел, всю пещерку вдоль и поперек. Непрост этот дедушка, а с виду тощий такой…
— А ты не спеши, Ваня, да не суди человека по одёжке-то. Кудесник я, Ваня, мастер по душам человеческим…
Во! Да ещё и мысли видит! А пещерка-то у деда и впрямь не простая, сразу всех секретов не открывает. Колодец-то неглубок был да широкий, как бадья в бане, только здесь она каменная была. Сверху текла тонкой струйкой водичка, да и скапливалась в этом ложе каменном. А в одном месте, куда водичка стекала, выдолблено было поглубже, словно ступенька вниз шла. Так что можно было и с головой окунуться, коли охота была. А вода-то – студеная, словно в проруби. Так до костей и пронимает. Враз весь сон сошел! Позавтракали они с дедом, да только Иван-царевич заприметил, что дедуля-то, словно пташка так чуток хлебушка пожевал да водичкой запил. А Иван-то царевич и кашу всю съел, и яйца все, что на столе дед выставил, и пол каравая умял. Сильно изголодался в пути…
— Ну что ж, Ванюша, ешь за семерых, а работаешь?..
— Работать я люблю, тока вот мне бы, что потяжелее – да покрепче…
— Э-э-э, нет! Ты всякую работу делать будешь, какую скажу.
Стали они спускаться по тропинке к морю-океану, да не дошли немного: камень как бы им путь преградил, да такой большущий, прям гора маленькая. Обогнули они этот-то камень, а за ним еще один поменьше. А тропинка-то и совсем пропала, сплошные камни под ногами, того и гляди – в море скатишься. А тут еще один камень на пути и обойти-то его совсем невозможно – висит он над морем самым…
— Вот незадача, да, Ванюша? – дед хитро прищурился, — Не пройти, не проехать… Стало быть через камень идти придется.
— Это как? – удивился Иван-царевич.
-Ты, Ванюша, камни-то хорошо ворочать умеешь, подтолкни-ка его легонько.
Толканул Иван-царевич камень-то тот, а он как бы вверх скакнул, словно козлик какой. Что за диво? А за камушком-то проход обозначился. Дед в этот проход так быстренько и забрался. А Иван-то царевич так столбом и остался стоять. Камень, словно живой, на свое старое место скакнул и проход загородил. Стоит Иван-царевич, озирается по сторонам, не знает, что делать-то: толи назад возвращаться, толи ждать стоять – может само как-то все разъяснится… И вдруг мысль ему в голову так и ударила, а что если дед-то там задохнется? Или что еще с ним приключится? Не раздумывая больше, он опять камень толкнул, да так, со всей силой, а он, словно вкопанный – стоит, не шелохнется. Тут уж Иван-царевич силушке своей волю дал: стал толкать и пихать этот камень проклятый со всех сторон, и плечом подпереть попробовал. Даже чуть в море не свалился. Да все напрасно – словно врос в скалу камушек-то этот. Совсем из сил выбился, никогда прежде такого с ним не случалось, чтобы вот так вся сила вышла. Даже руку поднять с трудом мог.
— Ну что, Ванюша, камушек-то подтолкни маленько, — услышал он за спиной знакомый хрипловатый голос старика. Да как же так, он своими глазами видел, как старик в проем пролезал, а он вот за спиной стоит, да посмеивается в свою тощую бороденку. Кошки заскребли в груди Ивана-царевича, кулаки сами собой сжались, никогда он еще так не злился, но смолчал, зубы стиснув. Подтолкнул он камень ненавистный, легонько толкнул, силы уже никакой не осталось, а камень опять вверх скакнул и открыл проход в скалу.
— Полезай скорее, Ванюша, камень-то ждать не будет.
Только протиснулся Иван-царевич в проход, как камень назад уже скакнул. Ну вот, теперь дед там остался…
— Вот, добралися наконец, — дедушка стоял возле лестницы каменной, которая от входа была в нескольких шагах… Да что же это такое?! Издевается над ним дед!
-Иди сюды, Ванюшка, тута у меня много чего припасено. Вот тока спуститься маленько надо.
 Странно как-то, вроде стоят они в пещере узкой да глубокой, свечек, факелов никаких нет, а свет есть, хоть и тускловатый. Лестница винтовая, ступени вниз уходят во тьму непроглядную… Иван-царевич, не раздумывая, стал по этой самой лесенке-то вниз спускаться. Да тут вдруг совсем темно стало, хоть глаз выколи. А ступеньки-то как-то вразнобой пошли: то большая, то маленькая… А то вообще нога ступеньку нащупать не может. Да что же это за напасть такая! И вдруг нога за что-то зацепилась, и… полетел Иван-царевич головой вниз в пропасть бездонную. Закричал он, что было мочи, никогда так не кричал. И вдруг гул такой пошел со всех сторон, как будто он голову в колокол засунул, а кто-то по нему со всех сил кувалдой бьет. Испугался Иван-царевич, как говорится – до смерти. «Ну вот и смертушка моя пришла» — в отчаянии подумал он. Сердце затрепыхалось в груди, словно птичка в клетке… И вдруг – шмяк, стукнулся он о дно какое-то, и в то же мгновение дыра сбоку открылась. Он туда и свалился, в дыру-то эту. На что-то мягкое упал, и свет ему в глаза брызнул.
Странно как-то, вроде стоят они в пещере узкой да глубокой, свечек, факелов никаких нет, а свет есть, хоть и тускловатый. Лестница винтовая, ступени вниз уходят во тьму непроглядную… Иван-царевич, не раздумывая, стал по этой самой лесенке-то вниз спускаться. Да тут вдруг совсем темно стало, хоть глаз выколи. А ступеньки-то как-то вразнобой пошли: то большая, то маленькая… А то вообще нога ступеньку нащупать не может. Да что же это за напасть такая! И вдруг нога за что-то зацепилась, и… полетел Иван-царевич головой вниз в пропасть бездонную. Закричал он, что было мочи, никогда так не кричал. И вдруг гул такой пошел со всех сторон, как будто он голову в колокол засунул, а кто-то по нему со всех сил кувалдой бьет. Испугался Иван-царевич, как говорится – до смерти. «Ну вот и смертушка моя пришла» — в отчаянии подумал он. Сердце затрепыхалось в груди, словно птичка в клетке… И вдруг – шмяк, стукнулся он о дно какое-то, и в то же мгновение дыра сбоку открылась. Он туда и свалился, в дыру-то эту. На что-то мягкое упал, и свет ему в глаза брызнул.
— Ну вот, Ванюша, спустилися мы, кому как бог послал…
— Да я чуть шею себе не свернул! Постой… а ты-то как тут оказался?
— Да я, Ванюша, вона по лесенке той сошел, — показал дед в сторону. И тут Иван-царевич стал по сторонам озираться: просторная такая пещера, с высоким потолком… ух ты! Да никак дыра в потолке! И солнышко лучиком своим пещеру освещает. Вот от чего так сразу светло стало. А лестница, на которую дед указал, была ровная, широкая, и все ступеньки как на подбор одинаковые. А откуда же он-то свалился?..
— А ты, Ванюша, в колодец полез. Он-то глубокий будет, до самого низа, до моря. Пришлось мне тебя, соколик, ловить. Ты ведь еще летать не обучен, — дед как будто его мысли видел. У Ивана-царевича все больше грудь распирало от злобы на старика. Казалось, он нарочно все подстраивал.
— Ну, пошли домой, вот тока ломик захвати, что у стеночки стоит.
— Мы что же это – сюда за ломом приходили?!
— Ну да, пригодится ломик-то этот.
— Стока сил потратили, да я чуть богу душу не отдал, чтобы этот ломик забрать?! – Иван-царевич просто дрожал от злости. Никогда так никто не издевался над ним.
— Ты, Ванюша, должон понять, что между «чуть не отдать» и «отдать» — огромная разница, ну прям пропасть. Потому как человек не знает своих сил и возможностей, пока не раз испытает вот это «чуть». Ломик-то не забудь захватить.
Иван-царевич схватил лом со всей силой, а тот и не стронулся с места. Он попробовал еще и еще, лом как в землю врос. Опять, как и с тем камнем, что вход в пещеру загораживал, сила ему не помогала.
— Подсобить тебе? — дед уже семенил к нему и легко так лом поднял, как палку какую, а потом на место поставил. Дед и впрямь потешается над ним. Ну, хватит с него, что он – клоун на ярмарке или царский сын?!
— Ну, слава богу, вспомнил – кто ты есть на самом деле. Молодец! А коли ты царский сын, то надобно тебе научиться не тока силой своей управлять, но и чувствами своими. Вот постой, подержись маленько за ломик, да подыши глубоко, а потом еще раз попробуй его поднять.
Иван-царевич так и сделал и легко так лом поднял, как палку какую.
— Ну вот, Ванюша, сегодня ты первый урок прошел: к силе надо понимание применить — злоба силушку отнимает. А еще надо внимательно слушать и смотреть. Я тебе как камень наказал убрать? Легонько коснуться… Там механизм защитный есть – от камнепада, от земли трясения, такое тоже, милок, случается. Вот он и впрямь в землю врастает, когда сильно-то его задевают, такой вот хитрый механизм поставлен. Этот камушек-то шибко нужен, чтобы кому не надо не видать было входа. А то, что за спиной твоей появился, мог бы и догадаться, что не один вход в ту пещеру идет, потому как не один такой камушек на дозоре поставлен. Все они надежно укрыты.
А ежели бы ты сильно не торопился да повнимательнее был, то и лестницу заприметил бы, что справа от колодца была, и многое другое рассмотрел бы. В колодце-то тоже несложный механизм имеется – заслонки там выдвигаются, чтобы поймать того, кто вниз полетел. Я вот и нажал на педальку-то, когда ты спускаться вниз стал: знал, что там почти удержаться невозможно. Лестница эта очень старая, и ступеньки кое-где совсем покрошились. Знал, что упадешь. Вот потому для тебя сразу тьма наступила – заслонка, которая сверху – закрылась, свет собой заслонила. И сразу сбоку люк открылся. Так вот и попал ты в эту пещерку — цел и невредим, потому как соломка подстелена, да и лететь недалёко. Еще скажу тебе, соколик, что кричать-то не всегда хорошо. Ты вот вопил во всю глотку, и камнепад случился. Всю теперь тропочку камнями завалило. Вот ломик-то и пригодится – камушки с дороги убрать.
Так Иван-царевич стал жить у старика в пещере и учиться уму-разуму. Ох, непросто ему приходилось: силу свою надо было в кулаке зажать и по капелькам выпускать на свет божий, легче было бы деревья с корнями выворачивать. А тут дед то попросит подсобить ему корзины плести, а веточки-то тонюсенькие – их и взять-то-удержать меж пальцами непросто, не то, что гнуть друг под дружку. Маялся Иван-царевич, по’том исходил, а веточек-то сколько изломал. А то крынки надо лепить из глины, да чтобы тенёхонькие стеночки-то были, такие хозяйки, мол, больше любят, в них молоко дольше не киснет… Маята одна, никогда ещё Иван-царевич так не уставал, даже когда день-деньской камни тесал. Ну, хоть волком вой!
И повел его старик в свой тайник тайный, сказал, что место там особенное, мало кто его вообще видел. Долго они шли по коридорам узким, переходили ручейки и речушки, средь завалов каменных пробирались, а вышли ну прям к дворцу диковинному. Всё расцвечено в цвета радужные, всё сверкает да переливается: вот колонны высятся, словно из-под земли выросли, а сверху сосульки такие гроздьями висят, да только они из камней самоцветных слеплены. А река так прям падает со скалы высокой, и потоком бурлящим в озеро гладкое бездонное вливается. У берега лодочка покачивается. Свет-то льется из расщелины в скале. Но самое дивное – это трубочки тоненькие блестящие как из золота вылитые… А дед сказал, что они и впрямь золотом покрыты. Да кто ж покрывал-то их? Это ж золота-то скока надо! Да и работа такая тонкая, кто же смог так высоко взобраться? И как эти трубочки к скале-то прикрепить? Здесь всё один мастер сделал – вода-матушка. В ней разные соли растворенные потихоньку год за годом, кристалликами стеночки покрывают и растут-растут вниз с потолка да вверх от пола. Так и вырастают причудливыми колоннами да сосульками. А трубочки-то золотые давным-давно образовались от пара, который из-под земли шел, в нем ртуть с золотом была вперемешку. Вот и покрыла она тонкой плёночкой каменные трубочки, которые тоже из воды выросли. Старик предложил посидеть у озера, да полюбоваться вволю творениями дивными, которые создала мать-природа. Иван-царевич задумался глубоко, дом родной вспомнил, загрустил, соскучился шибко по отцу-матери родимым. Как они там, не хворают ли? И вдруг ветерок легкий задул, и звук такой протяжный печальный разнесся. Вот он нарастать стал, на разные голоса запел, словно девушки хором песни грустные-печальные затянули… что за диво? А дед только в бороду посмеивается. Это трубочки золотые так петь умеют, когда воздух в них попадает. Вот когда-нибудь и люди научатся такие инструменты делать. Да ну? Иван-царевич недоверчиво головой помотал. Научатся, и летать по небу будут, и на Луну полетят. Да ну? Сказки всё это. Сказка – это то, что сейчас дано видеть. И еще дед добавил серьёзно так, чтобы он зорко глядел, да запоминал, как вода может такие дивные вещи творить – рук-то у нее нет. Так неужто человек, имея руки, не сотворит что-нибудь еще более диковинное. «Учись у природы-матушки, учись терпению, тонкости и легкости». А кто же на лодочке плавает и куда здесь плыть можно? По озеру далёко можно уплыть, тока осторожность нужна: там, у дальнего края, который и не видать отсюдова, озеро снова в речку превращается да с большой высоты водопадом вниз спадает. Так потоком бурным до самого моря и течет. А зачем тогда лодочка, ведь не рыбу ловить? Нет, не рыбу. Островок там посреди озера имеется — чудный такой островок. В свое время туда надо будет сплавать.
Всю обратную дорогу дед всё одно говорил, чтобы Иван-царевич у воды тонкости да терпению учился. И вот ведь чудо-то какое – Иван-царевич и впрямь как бы у воды научился силушку свою по капелькам отмерять ровно столько, сколько надо было: и прутики ожили у него в руках – гнулись да не ломались; и глина стала такой послушной – стеночки-то у крынок тонюсенькие выходили. А в ушах у него всё та дивная мелодия звучала, которую трубочки золотистые пели. И так уж эта мелодия ему на душу легла, что вот и заснет – а она не смолкает, даже еще пуще звучит, как из нутра доносится. А еще снова стала краса-девица по ночам сниться, да нежным голоском звать: «Ванечка, свет очей моих, я жду тебя, поджидаю…»
— Заневестился ты, соколик, — сказал как-то поутру дед, хитро посмеиваясь. А Иван-царевич застыдился – ничего-то скрыть от этого старика невозможно, насквозь видит.
— Вижу, Ванюша, вижу. Такое дело непростое – все видеть-подмечать, а таких как ты уму-разуму научать.
И вот, когда налепили они крынок не один десяток, а те как матрёшки – одна в другую влезают аж по пяти штук (хозяйки-то это ценят очень: места меньше занимают), старик сказал, что пора крынки-то эти на базар везти продавать, а на деньги от продажи купить надо того и этого, а то все запасы кончились. Скоро есть будет нечего и им самим, и курам и другой скотинке, какая у деда живет. А у него вот спина разболелась, придется Ивану-царевичу на базар ехать. Крынки дед в большущий короб поместил, который они вдвоем плели по очереди, и повел он Ивана-царевича в самую нижнюю пещеру по тропочке едва приметной. Вывел он оттуда… осла и говорит, чтобы Иван-царевич садился на него, а тот сам его до базара довезет, дорогу, мол, хорошо знает. У Ивана-царевича аж ноженьки подкосилися – да как, мол, сядет-то он, тогда как даже  богатырским коням хребты ломал?
богатырским коням хребты ломал?
— Этому не сломаешь, еще та скотинка, за шкуру свою не на жизнь, а на смерть стоять будет.
— Да может я тока короб на него погружу… и рядом пойду.
— Ну, попробуй. Э-э-э, нет! Грузи короб с камнями, а не с крынками!
Так и сделал Иван-царевич, да вот не задача, только у осла на спине короб оказался, стал он головой во все стороны мотать да подпрыгивать, пока короб на землю не сбросил. И так продолжалось много раз. Оба из сил выбились.
— Вишь, Ванюша, эта скотинка не приучена вьюки таскать. Вот тока всадника еще может потерпеть, да и то не всякого. Ты давай – садися на него пока без короба, вот тута на полянке — место ровное, травка растет… Попривыкнете друг к дружке… а я пойду за ломиком схожу…
— Это еще зачем?
— Да как же без него-то, без ломика? Без ломика никак не обойтися… — дед все бубнил себе под нос про ломик и семенил вверх по тропинке.
Иван-царевич остался наедине с ослом, который искоса наблюдал за ним, не забывая щипнуть пучок травы. Ну что же делать-то? Ждать деда с ломиком (зачем?!!) или попробовать залезть на ослика, легонько так… Ноги-то длинные – можно и о землю опереться, если что… На осле седло уже было, поводья и цепь зачем-то опоясывала морду… Стал Иван-царевич тихонько к ослу подбираться, вот уже за седло схватился, ногу занес и в этот самый момент ослик взбрыкнул задними ногами – Иван-царевич едва на ногах удержался. Тогда схватил он поводья крепко-накрепко и стал животом через седло переваливаться, а осел так и просел под ним до самой земли да ужом вывернулся из-под него. Рассердился Иван-царевич, схватил цепь, намотал на руку и притянул осла к себе поближе – ну, думает, с его-то силой управится со вздорной скотинкой, даже если хребет придется переломить. Ему страсть как не хотелось перед дедом опять увальнем неумелым выставляться. Одной рукой цепь крепко держит, а другой за седло схватился, ногу занес, а осел заголосил, что есть мочи и… шлепнулся набок, глаза закатил, захрипел и затих. Сдох он что ли? Вот незадача! Как так вышло? Сел Иван-царевич подле осла, пригорюнился.
— Что Ванюша ты не весел, что головушку повесил? – закричал дед, спускаясь по тропинке с ломом в руках.
— Да вот осла уморил, сам не знаю, как так вышло, — сказал Иван-царевич, качая головой.
— Ну, уморить его непросто, — дед полез за пазуху и достал краюшку хлеба, щедро посоленного, — Что, Скоморох, ты и в правду издох, и хлебушка с сольцой не будешь?
Не успел дед договорить, как осел, по прозвищу Скоморох, дернулся, что было силы, вскочил на все четыре ноги и поволок Ивана-царевича, у которого цепь так и осталась накручена на руку, по земле прямо к деду.
— Ах ты, мерзкая скотина! Да чтоб тебя волки задрали! – закричал Иван-царевич в сердцах.
— Да-а-а, не складывается как-то у вас. А как думаешь, Ванюша, почему?
— Ну, почём мне знать, я с ослами никогда дела не имел.
— Тут не в осле дело, а в тебе, соколик. Ты, ведь, готов хребет был ему переломить да волками стращать стал, а надо было подойти, погладить, ласковое слово сказать, ну и угостить его хлебушком или еще чем…
— Ну откуда же мне знать все это?
— А почему меня не спросил? Ежели бы ты так вот поступил, то несложно было бы и оседлать его. А теперь он тебе не доверяет, боится. Ну да ладно. Придется тебе попотеть, соколик.
Дед воткнул лом в землю, одел на него кольцо, которым цепь ослиная заканчивалась, разломил краюху хлеба пополам, протянул одну часть Ивану-царевичу.
— Вот, угости его для начала.
Иван-царевич взял хлеб, сунул ослу под нос, а тот возьми да и укуси его за руку.
— А слово ласковое? Да за ушком почесать? – старик как всегда усмехался в бороденку свою. Иван-царевич чуть зубами не скрипел от злости.
— За ломик, Ваня, иди за ломик подержися, да подыши-ка поглубже, вся злость-то в землю и уйдет. А как поостынешь, так мы с тобой верховой езде обучаться будем. Вот осла одолеешь, так и с богатырским конем управишься.
Нелегко пришлось Ивану-царевичу, оно корзины-то плести куда как легче было. Дед объяснял ему, что животные чуют людей – их мысли, настроения, страхи… Они понимают, как человек к ним относится – с любовью, лаской или со злым умыслом к ним подходит. Лаской можно многого добиться. Но надо, чтобы это из сердца исходило. Притворство они тоже хорошо чуют. Вот и подошли так незаметно, когда второе поле нужно вспахивать – поле Любви. Любить надо всякую живую тварь. Сердце-то у Ивана-царевича от рождения доброе, да неразвитое – грубоватое, гневливое. Вот его надо воспитать, наполнить нежностью да состраданием ко всему живому. А гнев и злость только силы отнимают и разрушают все вокруг. Вот тут-то ломик хорошо помочь может.
И впрямь, осел еще долго не хотел подпускать к себе Ивана-царевича – норовил куснуть или лягнуть, много раз хватался за лом Иван-царевич, чтобы злость в землю ушла. И потихоньку все наладилось. Все страхи из головы ушли, злость поубавилась и освободила место для ласки. Осел это сразу почуял и позволил залезть на себя. Дед учил Ивана-царевича как в седле сидеть, как каждую кочку вместе с ослом чуять и приподыматься вовремя, чтобы животному легче было. Надо каждое движение заранее определять, стать легким, гибким, ловким. Так Иван-царевич научился верхом ездить.
Иван-царевич сам себя перестал узнавать: движения стали точными размеренными, ничто в руках его не ломалось больше, да и под ним не трещало по швам, как когда-то. Ему порой казалось, что раньше вместо него кто-то другой был, потому как раньше вспыльчив он был до крайности и, как говорится, мог дров наломать, имея к тому же силушку неуемную. А теперь как только злоба вскипала в нём, так он ломик в руках представлял, что держит его, и гнев уходит в землю и растворяется там без остатку, подобно молнии, ударившей в громоотвод. Как-то случилось ему дерущихся на базаре разнимать, ну и ему случайно оплеуху влепили. Раньше он бы такой оплеухой ответил, что и покалечить бы мог. Вот его все и сторонились, чтобы ненароком под руку не попасть. А тут он снова про ломик вспомнил, и гнев сразу прошел. Мужики его потом благодарили, медовухой угощали, в гости звали.
Все больше Иван-царевич по дому скучал, все представлял себе, как он на коне да в кафтане праздничном к дому подъезжает, как матушка из терема навстречу бежит, как слуги охают и ахают, как неспешно отец к нему идёт, руки протягивает да стискивает в крепких мужских объятиях. Как все они удивляются на него… Старик-то всё ему об этом и толковал, как он совсем другим человеком на родину вернется. А что до коня и кафтана, то он может денег заработать. Научил его дед всякую работу делать – и с деревом работать, и с глиною, и с железом. У дедули и кузница небольшая имелась. У него в этой горе столько пещер да ходов имелось, что и заблудиться запросто можно было. Старик говорил, что Иван-царевич едва только одну треть видал из того, что есть. А тому уже не терпелось поговорить со стариком, что, мол, хватит уж ему учиться-то. Он стал мечтать, как на обратном пути заработает денег, где нужда в его работе случится, да купит себе обновы всякие и… коня, а еще меч настоящий. Ему дома-то меч в руки не давали от греха подальше, он все с дубинкою ходил.
— Да, Ванюша, ты многому научился, слов нет. Да тока надо тебе понять, что учится человек всю жизнь свою. Учёба никогда не прекращается.
— Ну, уж нет, эдак и жить некогда будет.
— Жизнь-то она и есть наш самый лучший учитель. Так вот живёшь и учишься помаленьку каждый день. В каждом дне что-то новое открывается. Надо тока внимательным быть и всё подмечать. Мелочей нет – все главное. А ты к тому же царем должон стать…
— Ну, вот уж и нет, не хочу я быть царем, я вот лучше воеводой стану. На коне теперь ездить смогу, вот тока меч маленько подучуся держать…
— А ты как думаешь, Ванюша, ты вот так по ошибке царским сыном родился?
— А я и думать об этом не хочу, ну, родился и родился… Так ведь многие прям во сне видят себя царями, вот пусть и царствуют себе на здоровье…
— Да… учиться тебе, Ваня, еще многому предстоит…
 Иван-царевич всё думал, как деду сказать, что домой ему пора, что соскучился – мочи нет по земельке родимой, по полям-лугам необъятным, по терему родному; отца с матерью обнять страсть как охота. А ещё, он и сам себе стыдился признаться, девок красных хотел удивить – каким он молодцем стал, не хуже там сынков боярских да княжеских.
Иван-царевич всё думал, как деду сказать, что домой ему пора, что соскучился – мочи нет по земельке родимой, по полям-лугам необъятным, по терему родному; отца с матерью обнять страсть как охота. А ещё, он и сам себе стыдился признаться, девок красных хотел удивить – каким он молодцем стал, не хуже там сынков боярских да княжеских.
— Да, Ванюша, не хуже, а тебе, соколик, много лучше надо быть, — тьфу ты, опять дед его думки разглядел, скорее бы уж с глаз долой.
— Я тебя держать силой не стану, коль решил домой возвращаться – скатертью дорога. Мы вот с тобой сегодня медовухи напоследок хлебнём, переночуешь и… в путь с утра отправишься.
Дело к вечеру шло, солнце к земле всё ближе склонялось, а дед пропал куда-то. Иван-царевич от нетерпения весь извёлся – скорее бы уж распрощаться со стариком, спать пораньше лечь, чтобы уж до солнышка в путь-дорогу отправиться…
Он вышел из пещеры на площадку перед входом, который со стороны моря синего был, чтобы ещё раз полюбоваться небом опрокинутым – так  Иван-царевич море звал. В его местах родных кроме озёр да рек, да ещё болот воды-то и не было. А тут – прям такой простор открывался. Не раз он сюда выходил, посмотреть, как с левой стороны солнышко подымалось, а справа вечером опускалось в воду расцвеченную. Особенно Ивану-царевичу закаты нравились – вот уж краса ненаглядная, когда небо и море соревновались в премудрости красок и оттенков огненных. А дорожка – золотом жидким разлитая, которая от солнца до самого берега расстилалась и трепетала искрами огнистыми, словно живая, глаз зачаровывала. Иван-царевич всё в последнее время думал, как бы сюда границы его государства дошли. Он готов был теперь с любым врагом сразиться, завоёвывать земли новые, славу себе в бою сыскать…
Иван-царевич море звал. В его местах родных кроме озёр да рек, да ещё болот воды-то и не было. А тут – прям такой простор открывался. Не раз он сюда выходил, посмотреть, как с левой стороны солнышко подымалось, а справа вечером опускалось в воду расцвеченную. Особенно Ивану-царевичу закаты нравились – вот уж краса ненаглядная, когда небо и море соревновались в премудрости красок и оттенков огненных. А дорожка – золотом жидким разлитая, которая от солнца до самого берега расстилалась и трепетала искрами огнистыми, словно живая, глаз зачаровывала. Иван-царевич всё в последнее время думал, как бы сюда границы его государства дошли. Он готов был теперь с любым врагом сразиться, завоёвывать земли новые, славу себе в бою сыскать…
— Да, Ваня, так тому и быть, тока всегда помнить: на землю чужую вторгаться грех великий, вот уж ежели свою защищать придётся… то врагов не грех потеснить маленько, чтобы помнили, что тот, кто с мечом придёт – от меча и умрёт, — дед стоял у стеночки каменной и щурился в лучах заходящего солнца, — Ты уж поди все жданки поел… Ну, пойдём теперя и впрямь поедим маленько – скатерть самобранка ждет. А я вот давеча насилу отыскал её. Забыл, в какой сундук сховал.
Да, с дедом не соскучишься – все шутки-прибаутки да сказки сказывает. Повёл его дедуля куда-то вбок, вроде они туда еще не ходили, или забыл уж Иван-царевич. Немудрено – столько всяких ходов, тропочек да пещер в этой горе, словно город целый в ней разместился. Вот они малость спустились, камень обогнули и… вход обозначился, да такой огромный, как же раньше-то его видно не было?
— Это, Ванюша, грот – так называют большую пещеру в скале, которую море выдолбило. Вот тут спускайся потихоньку, а я пойду за огнём схожу.
 Иван-царевич стал спускаться с большой осторожностью, помня тот случай, когда головой вперёд в колодце летел, да и мало ли, что дед ему ещё приготовил. Он уже научился быть внимательным и готовым ко всему в любой момент. Дед сказал, что наконец-то он пробуждается помаленьку, правда, не проснулся еще совсем. Спустился Иван-царевич без приключений. И что же он увидел?! Огромная пещера или как там его – грот что ли, потолок такой высокий, что с трудом его разглядеть-то можно, хотя свет вливался сюда последними солнечными лучами через большой проем в скале, спускающейся к самому морю. Слышен был шум прибоя, а порывы легкого вечернего ветерка доносили сюда резковатый запах моря. Дальше от входа возвышалась плита каменная, да такая ровная, будто каменщики ее тесали.
Иван-царевич стал спускаться с большой осторожностью, помня тот случай, когда головой вперёд в колодце летел, да и мало ли, что дед ему ещё приготовил. Он уже научился быть внимательным и готовым ко всему в любой момент. Дед сказал, что наконец-то он пробуждается помаленьку, правда, не проснулся еще совсем. Спустился Иван-царевич без приключений. И что же он увидел?! Огромная пещера или как там его – грот что ли, потолок такой высокий, что с трудом его разглядеть-то можно, хотя свет вливался сюда последними солнечными лучами через большой проем в скале, спускающейся к самому морю. Слышен был шум прибоя, а порывы легкого вечернего ветерка доносили сюда резковатый запах моря. Дальше от входа возвышалась плита каменная, да такая ровная, будто каменщики ее тесали.
Вот посреди нее стол стоял скатертью накрытый и… ну прям язык немел от увиденного: сама-то скатерть вся расписная с дивными птицами, опереньем ярким блистающими, а птицы те на ветках сидят, ветки закручиваются и сплетаются в узоры замысловатые, листочки всех оттенков цвета зеленого, и всё это золотой ниткой прошито. А узор этот на синем-синем фоне, таком глубоком, бархатном, что и глаз-то оторвать от него невмоготу. Ну а если всё же это удалось, то глаза сразу разбегаться начинают от того, что на скатерти-то этой поставлено: тут и блины стопкой на блюде красуются, и пироги румяные горой возвышаются, и осётр запечённый полстола занял, огурчики солёные, яблочки мочёные, брусничка  пряная, грибочки в крыночках самые разные, а дальше сгорбатился поросёнок молочный на вертеле зажаренный, а в центре стола в тарелочках глубоких – икра чёрная да красная горками сложены. Да бочонок стоит с краником и кружки две большущие долбленые расписные…
пряная, грибочки в крыночках самые разные, а дальше сгорбатился поросёнок молочный на вертеле зажаренный, а в центре стола в тарелочках глубоких – икра чёрная да красная горками сложены. Да бочонок стоит с краником и кружки две большущие долбленые расписные…
А и впрямь может это скатерть самобранка – мелькнуло в голове Ивана-царевича. И дух захватило, слюнки потекли – давно он такого разносола не видал. Возле стола по обе стороны два стула широких стоят с высокими резными спинками. Да откуда это всё у деда взялось?!
— Так ведь скатерть-самобранка – она всё и делает, что нужно, — дед, как всегда услышал мысли его. Он объяснял Ивану-царевичу, что просто умеет не только смотреть, но и видеть, не только слушать, но и слышать. А в чём тут разница – поди разбери. Да и шут с ними – со всеми этими премудростями, когда стол от яств ломится, а в животе уже пусто давно.
— А и правда, Ваня, садись давай, куда ноженьки твои тебя скорее донесут. Я вот тока факелы повешу на стену, чтобы не впотьмах нам трапезничать, — дед воткнул два факела в скалу за столом и посеменил к свободному стулу; Иван-то царевич не заставил себя уговаривать и плюхнулся на стул, к какому ближе стоял.
— А факелы-то зажечь? – Иван-царевич подумал, что дед запамятовал, не поджег огнивом факелы, тоже видать оголодал.
— Да они сами зажгутся, когда стемнеет, — и добавил, видя, что Иван-царевич с открытым ртом так и сидит, — Ну я же сказал тебе – скатерть-самобранка знает, что делать. Вот, Ванюш, тебе вопросик один – как думаешь, коли тута вместо тебя нищий сидел, попрошайка, что бы ему скатерть-самобранка предложила?
 — Да я… да неужто это и впрямь она все делает?
— Да я… да неужто это и впрямь она все делает?
— Она, милок, она самая. Так что для тебя она, вишь, как расстаралась… Ну, с богом, — сказал дед, наливая в кружки-бадейки из бочонка золотистый ароматный напиток, и протягивая одну из них Ивану-царевичу. И пошел пир горой, напиток-то тот, ох, и вкусён был: сладкий, крепкий, ароматный. А блины с икрой! Как давно Иван-царевич не ел их, а брусничка его любимая, а грибки крепенькие, хрустящие, да что и говорить — и впрямь скатёрка-то как знала, что Иван-царевич больше всего любил. Кружки звонко ударялись друг о дружку, чем дальше, тем звонче – так, что изрядная доля напитка хмельного на скатерть выливалась и… вот дела! Сразу же все пятна исчезали без следа.
А дед, подмигивал и говорил, что скатерть-самобранка вместе с ними пирует. Голова кругом пошла, а ноги в пляс пустились – и вот уже Иван-царевич отплясывает на полу каменном, а дед ему на гармошке играет, да куплеты весёлые задорные распевает. А факелы-то и впрямь вспыхнули, как солнце зашло. Ярко так запылали, но Иван-царевич нисколечко не удивился. Ему сейчас и море было по колено! Да хоть бы и стулья заплясали – эко диво. Вот то, что он внутри себя ощущал – удивляло его куда больше. Он сейчас мог абсолютно всё – мог бы с горы высокой спрыгнуть и целым остаться, это он точно знал. Огонь по жилам разливался буйным весельем. Какое там спать ложиться? Ему непременно надо было подвиг какой-никакой совершить. И вдруг – стоп! Тишина. Свет поубавился. Обернулся Иван-царевич, а стола как не бывало вместе со скатертью-самобранкой и кушаньями всякими, дед на скамейке шаткой сидит и что-то грустное себе под нос поёт.
— Всё, Ваня, тебе рано завтра вставать-то – путь неблизкий… А я уж тута без тебя как-то…
-Ну, ты не горюй, я навещать тебя буду… я… я… Вот хошь – любое твое желание исполню.
— Так прям и любое?..
— Любое! Я же царский сын! Даю слово царское.
— Ну, хорошо. Ты вот тока пока за водичкой холодненькой сходи, а то пить шибко охота после трапезы обильной. Сходи на колодец, там вода вкуснее. Ты вот сюда иди – здесь аккурат к тропинке нужной выйдешь.
 Так и сделал Иван-царевич – по темному проходу быстро вышел в их с дедом пещеру жилую. Схватил он ведёрко дубовое и побежал вприпрыжку напрямик по камням да колючкам, дороги не разбирая. А колодец-то тот был у дороги, что в село вела, куда на ярмарку Иван-царевич крынки возил. Быстро он до него добежал, хотя тот в полуверсте находился от их обиталища. И вот крюком он ведро подцепил и в колодец опускает. На небе луна во всю мощь сияет, светло, словно днем. Иван-царевич заглянул в колодец, чтобы посмотреть – наполнилось ли ведёрко-то… и аж обомлел! Из колодца на него красна-девица смотрит и лукошко с ягодами протягивает ему, похожая на ту, которая ему по ночам снилась.
Так и сделал Иван-царевич – по темному проходу быстро вышел в их с дедом пещеру жилую. Схватил он ведёрко дубовое и побежал вприпрыжку напрямик по камням да колючкам, дороги не разбирая. А колодец-то тот был у дороги, что в село вела, куда на ярмарку Иван-царевич крынки возил. Быстро он до него добежал, хотя тот в полуверсте находился от их обиталища. И вот крюком он ведро подцепил и в колодец опускает. На небе луна во всю мощь сияет, светло, словно днем. Иван-царевич заглянул в колодец, чтобы посмотреть – наполнилось ли ведёрко-то… и аж обомлел! Из колодца на него красна-девица смотрит и лукошко с ягодами протягивает ему, похожая на ту, которая ему по ночам снилась.
-Ванечка, вытащи меня отсюда, я тебя ягодкой угощу.
— А как же я тебя вытащу?
— Ты ведерко-то подымай, и я с ним подымусь.
Так и сделал Иван-царевич – ведерко поднял, а в нём и девица – краса ненаглядная поднялась с лукошком в руках, а в лукошке-то ягода-малина свежая, ароматная. И вот что дивно-то — девица та сухой из воды вышла. Только Ивану-царевичу недосуг голову ломать – что да к чему – он на девицу смотрит, наглядеться не может, а та ему речи сладкие говорит: мол, ждала она его долго и вот дождалась. Иван-царевич ягодку кушает и девицу слушает, да про ведёрко-то с водицей и забыл совсем. Теперь у него одно только на уме – как он завтра домой отправится, да не один, а вместе с Ладушкой своей, так он называл её во сне, и имя это ему на душу легло. Так они, беседуя задушевно до дедовой горы и дошли, поднялись по тропочке к пещере, а на входе их дед встречает.
— Ну что, Ванюша, принес водицы студеной?
— Ох ты! Да я запамятовал совсем, зачем и ходил. Вот какое чудо мне из колодца явлено. Завтра домой отвезу, да отцу с матерью покажу…
— Я так не думаю, Ваня. Ладушка твоя со мной останется.
— Да ты что, в своем уме?! Как у тебя язык повернулся такое сказать!
— Я, Ваня, стока сил на тебя потратил, уча уму-разуму, а ты вот даже водицы мне не принёс. А кто давеча говорил, что любое мое желание исполнит? И слово царское давал…
— Любое, но тока не это! Ладушка со мной должна быть. Да на что она тебе, старому?
— Это уж мое дело. Будет мне по хозяйству помогать, пирожки печь, ягодку собирать, да песни петь, чтобы душу веселить…
— Не бывать этому! Я тебе золота пришлю, камней самоцветных, коня наилучшего…
— Да на что оно мне всё это – этого у меня и самого хватает, ты ведь и половины не видал, что у меня в горе припрятано. А вот Ладушки такой нету… Некому старика утешить.
Иван-царевич готов был деда прибить от злости, никогда он еще так не злился. Старик душу его разрывал на части. От боли в глазах потемнело. А дед взял Ладушку за руку и… скрылся с ней в пещере, а вход камнем завалил. Иван-царевич и опомниться не успел, как всё это произошло.
Сразу так всё потемнело вокруг, словно Иван-царевич сам в глубоком колодце оказался. Звёзды на небе погасли, и луны как не бывало… а гора-то, гора – стоит тёмная, неприступная, ни входа, ни выхода, ни даже щёлочки никакой… Ах! Так он с ним, старикашка проклятущий! Да чтоб он помер этой ночью! Да чтоб его разорвало на кусочки мелкие! Ладушку-душеньку отнял. Ишь на что замахнулся – у царского сына невесту воровать! Да он приведёт сюда войско несметное – они всю гору по камушкам разнесут! Да что ждать-то до утра, так и с ума сойти можно. Он вот сейчас и начнёт эту гору воротить.
Взял Иван-царевич камень большущий да и запустил его в скальную стену. А тот, словно мяч, отскочил от неё да и вниз попрыгал в темноту тёмную. А на скале даже и царапинки не осталось. Эх! Ему бы сейчас ломик его любимый, уж он бы всю силу вложил в него, чтобы стену продолбить! А как до старика доберётся, то вот своими руками шею ему свернёт!
Вдруг внизу огонек Иван-царевич заприметил. Не думая долго, побежал он на огонёк этот. А вдруг найдет он там оружие какое-никакое. У него только одна мысль в голове и помещалась – раздолбить скалу, сделать проход, чтобы Ладушку освободить, чего бы это ему ни стоило. Не бежал, а летел Иван-царевич, дороги не разбирая, да хоть и шею свернёт – это его не остановит. Вот спустился он к дороге самой – огонёк-то за поворотом сквозь деревья просвечивал. Припустился он пуще прежнего, только пыль столбом за ним вздымалася.
И вот за поворотом увидел он дом, забором огороженный, за забором – повозки разные стоят, к ним лошади привязаны, сено жуют. Дорожка прямо к крыльцу ведёт. Двери закрыты наглухо. Подскочил Иван-царевич к дверям и давай колотить, что было мочи. «Кто там, полуношник окаянный, так шумит? Всех перебудишь!» «А вы открывайте сейчас же, а то двери выломаю!» «Да ты что же, милый человек, разбой-то чинишь? Что надо-то тебе?» «Оружие!!!» «Батюшки! На ночь-то глядя…» «Открывайте, а то хуже будет!» Иван-царевич не кричал, а рычал, словно зверь дикий. Только слышит он, что с той стороны дверь еще на один засов запирают. Ах, так?! Ну, пеняйте на себя! Приналёг Иван-царевич на дверь, всю силушку свою приложил да и сорвал её с петель, а засовы отскочили вместе с доской. Дверь упала на пол с диким грохотом, весь дом содрогнулся. С потолка что-то посыпалось. Раздались крики со всех сторон. Шум, гам, дым коромыслом. А дальше Иван-царевич и не понимал, что происходит – кто-то на него налетал, он кого-то хватал и… хрусть, как всё равно шея чья-то ломалась…
И вот вдруг тишина такая настала, что в ушах звон пошел. Глянул, а сверху по ступенькам к нему девочка спускается, да котёночка в руках держит. Вот, говорит, котика-то разбудили… и протягивает его Ивану-царевичу. А у котика глаза голубые-голубые, как у его Ладушки. Взял он котёночка, а тот в его ладонях, словно в лукошке утонул, клубочком свернулся, да глазки прикрыл и замурлыкал… Сел Иван-царевич, прижал к сердцу своему котика и залился слезами горючими…
— Что, Ванюша, лихо тебе пришлося? – дед стоял сбоку, как ни в чем не бывало, и посмеивался в бороду – Ну, я тебе скажу, милок, пить медовуху-то с умом надо…
— А я… а что я натворил, кого убил? Меня надо в пещеру посадить и камнем завалить, пока я кого-нибудь ещё не убил… Я и тебя хотел придушить, тока добраться не мог… А где Ладушка?..
— А ты повнимательнее посмотри, послушай и… поймёшь – где она. Раз ты на меня зверем лютым не бросаешься, не сомневайся – она на месте.
— Так это… как… она что же как-то внутри меня, что ли?
— Ну да, где же ей ещё быть-то? Ладушка – душенька. Душа, она и должна как-то внутри быть.
— А как же я её из колодца-то достал?
— Ну, тут я подсобил маленько. Ты не забыл, что я кудесник?
— Так это что же – всё тока в моей голове происходило?
— Конечно, Ваня, в твоей голове, но ведь никто не сказал, что этого не могло бы быть на самом деле. Да и всё же, какой-никакой, разбой-то ты учинил. Иди, глянь коли охота.
— А трактир, лошади тама ещё сено жевали…
— Ну, ты же сам хорошо знаешь, что самое близкое село от нас в пяти верстах. Никакого трактира поблизости нету. Пошли-пошли – поглядишь на свои выкрутасы.
 Они спустились в нижние хозяйственные пещеры – туда, где были куры с петушком, ослик… Боже! Повсюду перья валялись, всё перевернуто вверх дном и… куры лежат с переломанными шеями… Один петушок только кудахчет беспокойно. А как Ивана-царевича увидал, так и взвился высоко на скальный выступ.
Они спустились в нижние хозяйственные пещеры – туда, где были куры с петушком, ослик… Боже! Повсюду перья валялись, всё перевернуто вверх дном и… куры лежат с переломанными шеями… Один петушок только кудахчет беспокойно. А как Ивана-царевича увидал, так и взвился высоко на скальный выступ.
— Вот так он и спасся от зверя лютого в твоём обличии.
— А ослик? Где он? Неужто…
— Нет, Скомороха голыми руками не возьмёшь. Он тебя чуть не сшиб, когда из пещеры драпанул. Всю ночь на лужайке травку щипал. Я его привязал к дереву.
— Так ты всё видел? Видел, в какого я зверя превращаюсь? Да разве ж я могу среди людей-то жить?
— Ну, человек без души завсегда на зверя похож. Это и надо было тебе понять. Прочувствовать всем существом. А ещё, Ванюша, надо тебе хорошенько запомнить, что обещания давать тоже с умом надо. И такие как «всё, что хошь» тебя погубить могут. Это мы с тобой к третьему полю подошли – полю мудрости. А его – пахать-не вспахать. До конца дней твоих хватит.
На следующий день Иван-царевич сидел как в воду опущенный и всё твердил, чтобы дед посадил его в какую-нибудь пещеру да камнем припёр, чтобы он кого-нибудь невзначай не покалечил. Жутко он перепугался того, что ничего не помнил о своём ночном буйстве. А вдруг вот так опять из него зверь вырвется нежданно-негаданно!
И тогда дед поведал ему свою историю:
В своей молодости, которая была в незапамятные времена, он был… разбойником! Да-да – разбойником: грабил людей и… каким, случалось, глотки резал, которые добровольно не хотели со своим добром расстаться. Ему помогали его сотоварищи, которые главным его признавали за его силу недюжинную да смекалку острую. Разбойники на одном месте надолго не задерживались и постоянно перемещались по разным дорогам, на которых и чинили разбой. Так никто толком и сказать не мог, где они в следующий раз объявятся. Купцы и народ торговый хорошо знали про них, дак ведь не убережёшься. А разбойники нападали внезапно и стремительно, потому как заранее знали, кто и куда едет, что везет и есть ли охрана. И вот однажды случилось им повозку остановить, которая выскочила прямо на них из-за поворота. В ней было только два человека, не считая кучера. Тот сразу смекнул, что к чему, но хоть и загнал лошадей, да куда им против верховых-то? Окружили их… кучер-то шмыг в овраг, да и поминай его, как звали. А купец-то со страху в ноги бросился и молить стал о пощаде – пусть всё берут только их отпустят живыми. Дак и брать-то нечего было… разве что лошади, да и те полуживые были. Досада взяла разбойников, что впустую гнались, вот и снесли голову мечом острым бедолаге, что вот так под руку попался. А второй… выволокли его из повозки – весь закутан был в тулуп овчинный, потому как время к зиме катилось… Из-под платка пухового — глаза, широко открытые цвета небесной лазури. В них скорее удивление, чем страх. Сорвали с него тулуп, платок сдернули с головы, а под ним — косы туго заплетенные, да длинные-предлинные. То – девица была, да какая красавица! Ну, знамо дело, обрадовались разбойнички – девка вот так на голову свалилась. Да только дед её себе присмотрел и никого к ней не подпустил. Крутой он тогда был, на расправу быстрый, боялись его. Стала она с ними – разбойничками жить. Да неплохо справлялась: стирала, готовила и даже в налетах участвовала, только всегда молила пощадить, не убивать тех, кого грабили. Уважали её, как жену атамана, слушались. Много раз дед приставал к ней с расспросами – почему она так странно тогда себя повела, когда напали-то на них, да и кто тот купец был. Она все молчала, только говорила, что свершился суд праведный по молитвам её горячим. Странно всё это было, но пытать её тоже не хотелось. Так и жили они – не тужили до поры, до времени…
Тяжелая она стала – княгинюшка, как звал свою красу ненаглядную дед. Новый атаман родится, говорили разбойнички, подмигивая. Жалели её, вкусности разные приносили. Тут и срок подошёл родить, да так вот случилось, что облаву на них мужики деревенские устроили. Прознали, где они укрываются. А время позднее было, вот-вот снегу пойти. Ледок сковал речки и ручьи, да непрочный ещё был. Когда мужики нагрянули на их стойбище, все, кто в чём, побежали в разные стороны. Да и княгинюшка с огромным животом тоже побежала. И прямо на ледок-то тонкий и выбежала. Ну и…
Когда вытащили, она чуть живая была. Все разбойники убежали, один дед остался. Куда от своих-то родненьких убежишь? Ну, народ-то жалостливый, бросились помощь оказывать, а про деда как бы и забыли вовсе. А он только тихо возле неё на коленях стоял да за руку держал. Вот она глазоньки свои голубые открыла и силилась что-то ему сказать… Он к самому её рту ухо поднес… Она шептала, чтобы ребёночка спасли. А как? Да пусть разрежут живот ей поскорее и вытащат маленького, пока она жива. Ну как можно вот так любимую ножом полоснуть?! Скольких он так запросто по горлу! А тут… А она всё не отстаёт, умоляет спасти дитятко. Мужики-то стоят, смотрят, руками разводят. Что тут скажешь?
И вот она из последних сил его притянула к себе и быстро, как в горячке заговорила. Сначала он подумал, что и впрямь горячка началась: она говорила, что он ей богом послан с самого первого мгновения их встречи. Тогда она в телеге, закутанная в тулуп молила богу, чтобы он лучше лишил её жизни, чем с убийцей отца и брата ложе делить. Силой он её увозил из дома родного, давно по ней с ума сходил. Да только не люб был он ей. А отец не хотел насильно её отдавать замуж, хотя и за богатого да знатного. Вот он и решил похитить ее. Да сначала брат за неё вступился, а потом отец. Ну и напоролися оба на кинжал острый. Быстро с ними разделался тать проклятый, и её скрутил, в тулуп засунул и погнал коней прочь поскорее, пока народ не сбежался… Она молила Бога, чтобы забрал и её тоже, руки бы на себя наложила, если бы смогла. Мысль жгла всю её от возможности даже прикосновения этого зверя лютого. Она молилась, что Бог послал ей хоть какое-то избавление: кони понесут и телега разобьется, разбойники нападут… Она и этому была бы рада… И Бог услышал её молитвы и… даже счастье подарил быть любимой… иметь ребёночка… Она уже еле говорила и всё молила спасти дитя, холодеющими пальцами сжимала ему руку и глядела в самую душу…
Дед на мгновение остановился дыхание перевести, закрыл глаза и тихо продолжил свой рассказ. Он как в тумане выхватил нож и… полоснул по голому животу! Крови почти не было, видно охладилась сильно. Она только слегка вздрогнула, глубоко вздохнула и… отошла в мир иной. Не сразу ему удалось найти дитя, руки дрожали, боялся зацепить ненароком. Но вот высвободил он живой комочек из утробы матери, обрезал пуповину. Крохотное красненькое тельце слегка шевелилось у него в руках. Мужики стали всякие советы давать – надо хлопнуть дитя, чтобы заплакало, да воздух в лёгкие набрался… Кто-то выкупать предлагал. Это в ледяной-то воде! Кто-то предлагал поскорее в тулуп закутать да снести в деревню к бабам – они, мол, знают, что делать. Он так и решил поступить, да как же княгинюшку бросить, хотя и бездыханную уже… Мужики соорудили быстро что-то вроде саней из веток и положили её, связав поясами. А когда добрались до деревни, то и ребеночек перестал дышать – задохнулся  или еще что…
или еще что…
Оставили его одного со своим горем тяжким – поняли, что смерть ему была бы только избавлением. А он руками стал голыми мёрзлую землю рыть, чтобы похоронить любушку свою да ребёночка, из утробы матери выпотрошенного до времени. Это была девочка.
Ну, а дальше-то что, Иван-царевич рот открыл от напряжения – привычка у него такая с детства была. А дальше-то… ушёл дед от людей – никого видеть не хотел, отшельником стал. Праведную жизнь стал вести. Он с тех пор даже курицу зарезать не мог. Вид крови был невыносим ему.
Иван-царевич сидел с открытым ртом, а дед надолго замолк…
— Ну что, Ванюша? Удивлён? Да оно и понятно – на разбойничка-то я щас не очень похож. Вот и послушай меня и постарайся хотя бы поверить, коли не поймёшь что, а жизнь потом всё по своим местам поставит: в человеке есть всё – весь мир в душе его имеется и всё, что в этом мире есть от самого ужасного до самого прекрасного. Душа его и невестою-Ладушкой расцветает и в убийцу лютого превращается порой; и птицы небесные в ней песни распевают, и гиены кровожадные рыскают. И душу свою как коня норовистого укрощать приходится, да управлять ею учиться, чтобы не она тебя несла, куда ей вздумается, себе же на погибель, а дух человеческий крепко поводья держал, да в нужную сторону правил. И даже ежели ошибёшься и не в ту сторону завернёшь — поводья крепко держать надобно, то бишь понимать, что делаешь, всегда чувствовать свою душу – править ею и ПРАВИТЬ её. Это как мы с тобой камушки самоцветные шлифовали, чтобы выправить все неровности, чтобы узор проявился, что в камне заложен был Природою. Ты вот как раньше, ежели что не по тебе — так сразу злиться начинал, да закипал, что самовар медный, аж крышка до потолка подскакивала да дым из ушей валил – разбегайся, народ честной, а то Ванька кого зацепит да пришибёт ненароком до смерти (дед лукаво усмехнулся). Ну а потом научился-таки гнев свой в узде держать и… сразу работа всякая получаться стала, о которой раньше и не мечталось. Потому как силушку свою, которую ты от гнева освободил, вся на добрые дела пошла. А вот прикинь-ка щас – какая силища, мощь высвободилась, когда ты зверя страшного в себе укротил! Ты ведь вчерась, за ведерко хватаясь, об чём подумал? Ну, припомни…
— Да я… да мне… ну, эта… А! Я подумал, что мог бы лететь и… мог бы гору с места сдвинуть, ежели бы понадобилось…
— Вот-вот, хорошенько запомни это – и гору можно сдвинуть, коли нужда в этом великая. Но надобно всю свою душу в это вложить. А главное – управлять ею научиться. Это посложнее будет нежели осла оседлать… Ну а теперь иди – свое буйство ночное разгреби.
Этот день пролетел незаметно, да и сколько их уже улетело в даль безвозвратную – Иван-царевич не в силах был даже приблизительно сказать. Вот уж и закат отгорел, и краски померкли, и всё погрузилось в ночную дрёму, а они с дедом сидели в пещере у очага, пили чай из трав ароматных да тихо беседовали.
— Я вот тут поразмыслил, ну и понял, что мне многому ещё научиться надо, рано ещё домой возвращаться, — дед долго не отвечал. Иван-царевич уж было подумал, что дед таким образом согласился с ним. Как вдруг…
— Ну что же, соколик, время пришло в путь-дорогу собираться, — и развернулся резко лицом к Ивану-царевичу, у которого рот сам собой раскрылся сразу от удивления — Большего тебе я дать не могу, ты главное понял – многое тебе ещё постигать предстоит, а учить тебя сама жизнь будет, она всех учит, да токо уроки её не всем в прок идут. Ну а ты хорошим учеником оказался, таким и оставайся.
 На следующий день дед, с таинственным видом укладывая мешки, бормотал себе под нос: «Курочки вяленые на солнышке с травками пряными, Иваном удушенные – пять штук, лепёшки ржаные печёные, тмином приправленные – десять штук, лучок-чесночок от хвори всякой, бутылочка медовухи для бодрости и настроения… Ну что же, Ванюша снеди тебе на недельку-другую хватит, а там – что бог пошлёт. Ну а теперь пора нам в пещеру отправляться, где озеро с островочком, у меня тама для тебя кое-что припасено, тебе понравится».
На следующий день дед, с таинственным видом укладывая мешки, бормотал себе под нос: «Курочки вяленые на солнышке с травками пряными, Иваном удушенные – пять штук, лепёшки ржаные печёные, тмином приправленные – десять штук, лучок-чесночок от хвори всякой, бутылочка медовухи для бодрости и настроения… Ну что же, Ванюша снеди тебе на недельку-другую хватит, а там – что бог пошлёт. Ну а теперь пора нам в пещеру отправляться, где озеро с островочком, у меня тама для тебя кое-что припасено, тебе понравится».
Рано утром отправились они по лабиринту пещер, по которому уже ходили когда-то, чтобы посмотреть на искусную работу воды. Вот и речка подземная, которая в озеро втекает шумным водопадом, а под сводом пещеры – трубочки золотистые, которые петь умеют, если ветер задувает в многочисленные отверстия пещеры. Иван-царевич надеялся услышать еще раз эту дивную мелодию волшебной горы, но погода стояла ясная и тихая, не было даже дуновения ветерка. А дед тянул его за рукав к лодочке, что привязанная была к колышку на берегу подземного озера.
— Ванюша, времени у нас с тобой не больно много, а нам стока дел надобно переделать! Садись, милок, да вёселко со дна достань.
Иван-царевич в лодку-то одну ногу поставил и… чуть было в воду не полетел – лодочка-то вёрткая оказалась.
— Полегше, Ванюша, ты её, лодочку-то почуять должон, тогда она тебя слушаться будет.
— Да что же она – живая что ли?
— А то как же – живая, коли мастер в неё свою душу вложил. Любая вещь через это живая становится. Вот ты и почувствуй эту душу мастера, тогда и поймёшь, как лодочкой править. Ну, попробуй тут у бережка для начала.
Иван-царевич осторожно в лодочку залез – она закачалась в разные стороны, того и гляди – перевернётся. Но дедовы уроки пошли впрок. Он уже научился отслеживать каждое своё движение и контролировать его. Более того – он научился чувствовать пространство, окружающее его, как продолжение себя самого…
Вёселко легко перепархивало с одной стороны лодочки на другую, и та скользила по бурному потоку воды как по зеркальной водной глади. Иван-царевич так увлёкся, что даже и позабыл, зачем он здесь, да и о своём спутнике тоже и думать забыл.
— Ну что, Ванюша, не наигрался ещё? – услышал он голос деда за своей спиной и так вздрогнул, что чуть было лодку не перевернул. Когда же и главное — как дед мог залезть в лодку, он-то и к берегу не подплывал вовсе.
— Ты греби-греби, не отвлекайся. Не забыл – куда плыть-то?
— К острову что ли?
— К нему самому. И не спросишь – зачем?
— Ну… там видно будет, — буркнул Иван-царевич, а сам подумал, что ухо востро надо держать, коли так необычно их заплыв начался.
До острова они доплыли в считанные минуты, ещё и течение помогало. Остров был в самом конце озера и делил его на две протоки, которые довольно быстро устремлялись к сифону, где и сливались в мощный шумный поток, уходивший под скалу. Ещё в прошлый раз Иван-царевич заметил мерцающий свет над островом, а сейчас он еще ощутил какой-то странный гул. Что ещё за напасть? Нутро его поёжилось от дурного предчувствия.
— Что Ванюшенька не весел, что головушку повесил? – начал причитать дед елейным голоском. У Ивана-царевича поневоле внутри что-то зарычало.
— Ну вот и зверёк твой никак голос подаёт – хитро подмигнул дед уже с берега, пытавшемуся вылезти из качающейся лодки Ивану-царевичу. Та вдруг опять стала неуправляемой. Ну конечно, было понятно, отчего это происходит – Иван-царевич потерял равновесие внутри себя от внезапного раздражения. Он несколько раз глубоко вздохнул и… полегчало. Дед только одобрительно кивнул головой и поманил его в центр острова, где была какая-то огромная каменная чаша или котёл или просто скала такой странной чашеобразной формы. Именно оттуда и выходили всполохи странного света. И чем ближе они подходили к этой самой чаше, тем сильнее был слышен гул и какое-то клокотание или даже шипение. Уж не Змей ли Горыныч там сидит? Мелькнула в голове у Ивана-царевича такая забавная мысль.
— Нет, Ванюша, не Змей, — дед как всегда каким-то непостижимым образом прочёл его мысли, — А чего ты удивляешься, не так уж сложно догадаться, о чём думает человек.
— На лбу что ли у него написано?
— Ты вот насмехаешься, а зря. Чем больше человек слушает себя и то, что вокруг него, тем лучше и глубже чует, что делается внутри и снаружи. Так ведь и другого можно чуять как себя самого. Но начинать-то всегда с себя надо. Я за свой долгий век научился слышать, что за многие вёрсты от меня происходит. Не ушами, конечно, а душой. Она у нас всё ведает, тока мы мало ей внимания уделяем. Да мы порой не слушаем, когда нам чего говорят – мимо ушей пропускаем. Слушаем – да не слышим… В каждый момент жизни стока всего происходит! Мы и с ноготок не чуем что к чему. А вот когда уши душеньки нашей раскрываются и её глаза – то мир-то совсем другим боком разворачивается. Он и наизнанку для нас вывернется, коли мы его услышать готовы. Душа становится огромной и внимает всему, что объемлет. Так-то вот, соколик, учись смотреть и слушать душой своей.
Тем временем они уже вплотную подошли к этой гудящей, шипящей, изрыгающей огонь каменной чаше.
— Это кратер, — сказал дед и, видя привычное удивлённое выражения лица Ивана-царевича с широко открытым ртом, усмехнулся и сказал, — Маленький такой вулканчик. Он вот когда извергается, то много чего на поверхность выбрасывает. Вот однажды камушек один выбросил, и тот, когда наземь упал, вот такую дырочку проделал, — дед указал на яму позади чаши, метра два в диаметре, — Тут я сразу смекнул, что камушек-то тот не простой…
— Ну и?..
— Так оно и вышло. Это был небесный камень, с неба когда-то прилетел на Землю. А может тока кусок откололся от большого камня и на глубину ушёл от удара. Вот лежал он там в утробе Матушки-Земли, пока вот его час не настал. Кузнецы мне из него меч выковали. Равному ему нет. Простые мечи перерубает как хворостинки. Меч, стало быть, булатный… Ты мечтал купить себе по дороге, а у меня он для тебя давно припасён был. Вот тока достать его надо…
Достать, достать… это откуда достать-то, не из этого же котла огненного. Так размышлял Иван-царевич, в глубине души надеясь, что это не так.
-Чего ты боишься? Ты думаешь, что я стока времени на тебя положил, чтобы, в конце концов, извести тебя? Со свету сжить?
— Ну… это… не-е… конечно…
-Ну-не-но! Что ты блеешь, словно овца недорезанная. Ты, ведь царём должон стать, али как? Говорить ты должон, словно гвоздь заколачиваешь с одного удара. Отвечай – веришь мне, али нет!
— Да я… чего… я-то…
— Веришь?!
— Да!
— Тогда полезай!
— Это куда же – в котёл что ли огненный?!
— Это кратер, сколько раз тебе повторять? Кратер вулкана, который почти потух. Так маленько там пыхает.
— А ты зачем меч-то туда запихал?
— Да чтоб закалился он, дурья твоя голова. Вот обмотайся одеялкой, да рукавицы надень, а я тебя водицей сбрызну. Оно, конечно, жарковато будет, но потерпеть можно. Тута вот ступенечки выдолблены, по ним и спустишься. А тама ниша будет – вот в ней-то меч и лежит. Я тебя щас верёвками обмотаю, чтобы не свалился, не дай бог.
— А кто же эти ступеньки-то долбил?
— Лезь, давай, времени у нас с тобой в обрез. Кто долбил, кто долбил… Нашлися значит такие умельцы.
— А я не сварюсь?
— Ну что ты заладил? Ещё раз говорю тебе – я хотя бы раз посягнул на твою драгоценную жизнь? Ни разу! Потому как отвечаю за тебя перед Богом. Ежели будешь доверять мне всецело, то никогда не пропадёшь!
— Ну а почему ты за меня отвечаешь?!
— Интересный вопрос и сложный… Вот как отвечу, а ты просто поверь: тебе многое сделать предстоит, много у тебя впереди сражений, побед и потерь. Но самое-то главное, что никто другой кроме тебя с этой задачей не справится. Ты сам взял на себя эту ношу нелёгкую…
— Это когда же я такое сделал? Что-то не припомню…
— Ну да, время ещё не пришло припоминать тебе. Всё со временем вспомнишь и поймёшь. Ты пришёл в такое время, когда земле твоей со всех сторон угроза уготована. Многие захотят земли твоего народа захватить. А ты не тока всех врагов одолеешь, да ещё границы своего царства раздвинешь до семи морей!
— Эка загнул! Мне бы хоть на одно море выйти. У нас всё боле народ по рекам плавает, по морю-то и не обучен, да и кораблей таких нету.
— Будут, будут и корабли и флотилия огромная будет. Народ твой талантлив, быстро научится корабли морские строить, да по морям ходить. Ну а драться за землю свою он, как ни один другой народ умеет. Надо тока воеводу ему достойного. Ты всегда мечтал воеводой стать. Так оно и будет. Прежде, чем на царство взойдёшь, воинов за собой поведёшь сражаться за родину. И победу одержишь великую. Народ сам тебя на царство возведёт.
— Да откуда это тебе всё известно-то?
— Ну, Ванюша, говорил ведь тебе не раз – кудесник я. Да ты полезешь или нет?! Время теряем, а тебе сегодня, милок, в путь-дорогу отправляться надо. Да и мне пора домой…
— Домой?..
— Ну, будет! Сам всё увидишь. Простимся с тобой честь по чести. Лезь, говорю!!!
Иван-царевич, укутанный в одеяло, обвязанный верёвками и политый водой с большой неохотой перекинул своё тело за стенку чаши на первую ступень. Двигаться было очень неудобно, таким неуклюжим он уже давно себя не ощущал. Каждая ступень давалась с большим трудом, пот катил градом, но дышать было можно и, к удивлению Ивана-царевича, нестерпимого жара он не чувствовал. Он повеселел, а мысль о том, что у него будет свой меч, да ещё какой, придавала сил. Без особых затруднений он добрался до ниши и увидел там что-то, завёрнутое в какие-то тряпки. Это его озадачило: как же меч закаляется через это грязное тряпьё? Опять дед над ним потешается! И… тут началось! Он стал задыхаться, голова пошла кругом, его обуял жуткий страх. И уже закралась мысль – да ну его к лешему этот меч, самому бы живым выбраться. В это же мгновение увидел укоризненный взгляд деда – слабак! Ну, уж нет! Он схватил завёрнутое в тряпицы – оно оказалось очень тяжёлым – прижал одной рукой свёрток к груди, а второй взялся за верёвки, которыми был обмотан, и стал потихоньку подтягиваться до ступени, идущей наверх. Вот тут с него семь потов сошло! А это только одна ступень, сколько же их ещё?.. В голове гудело и стучало, как в кузнице, глаза щипало от пота, дышать было почти невозможно, потому что не оставалось места сделать вдох, да и воздух стал горячее… И тут внутри у него появилось и росло чувство ему мало знакомое – он может всё!
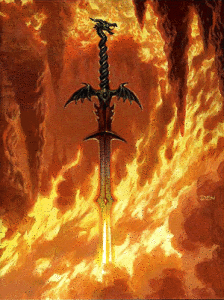 Похожее состояние он пережил, когда за водой для деда побежал, но там было много от веселья, бесшабашности. А сейчас было другое – он может вытерпеть все муки, преодолеть все преграды ради победы! Это была Вера в… себя, в победу, в свой народ, в Бога, который был внутри, в его сердце! Когда он вылез, то почувствовал себя совсем другим человеком, как будто заново родился. Это великое чувство Веры наполнило всё его существо. Перед дедом предстал отважный витязь!
Похожее состояние он пережил, когда за водой для деда побежал, но там было много от веселья, бесшабашности. А сейчас было другое – он может вытерпеть все муки, преодолеть все преграды ради победы! Это была Вера в… себя, в победу, в свой народ, в Бога, который был внутри, в его сердце! Когда он вылез, то почувствовал себя совсем другим человеком, как будто заново родился. Это великое чувство Веры наполнило всё его существо. Перед дедом предстал отважный витязь!
Это был последний день Ивана-царевича в горе деда. Запасы провизии были с любовью подготовлены и уложены в дорожный мешок. Меч красовался в богато инкрустированных ножнах (об этом дед тоже позаботился заранее). Иван-царевич постоянно вынимал его из ножен, чтобы полюбоваться на тёмный обоюдоострый клинок, он казался даже немного масляным из-за плотности метеоритного железа, как говорил дед. И только задумался Иван-царевич о коне, где бы можно было настоящего боевого коня достать, как дед подмигнул ему и позвал за собой. Неужто и конь у него припасён?
— А то как же Ванюша? Припасён, знамо дело, хорошего боевого коня днём с огнём не сыщешь. А у меня выращен конёк на ячмене отборном да на водице из целебного источника. Под седлом он уже обучен ходить, вот тока хозяина пока не имеет, тебя дожидался. Этой благородной скотине непременно хозяин требуется, ибо он по своей природе и породе должон служить кому-то. Он мало с кем общался, для тебя берегли. А тебе надо ему сразу дать понять, что ты и есть тот, кого он давно ждал.
— Это как же?
— Подумай, почувствуй, попробуй понять состояние этого животного. Много будет значить твоё первое общение с ним. Конь добрый за хозяина и жизнь готов отдать и из любого пекла вынесет его. Это очень важно. Ну, мы уже почти пришли… Ты как? Готов? Я щас выпущу его на лужайку, а ты погляди на него пока, не торопись подходить…
Ух! Какое это было красивое и благородное животное! Очень высокий, белый с серыми подпалинами с белоснежной гривой и хвостом – пышным, длинным, словно крыло птицы. Конь, почуяв людей, заржал призывно…
И тут Иван-царевич словно в душу к нему заглянул – ощутил в себе его тоску по хозяину, его желание скакать с умелым всадником по широким степям, а потом почувствовать ласковую заботливую хозяйскую руку, гладящую его холку… Иван-царевич даже перестал различать – где он сам, а где конь – так они слились воедино! Он даже не заметил, как на самом деле его рука заскользила по шелковистой коже выгнутой шеи коня…
Дед ещё долго копался в своих сундуках и что-то бормотал себе под нос, а Иван-царевич примерял кольчугу и шлем, которые тоже для него отыскались. Было похоже на то, что дед давно замыслил полностью подготовить его к ратным подвигам и продумал всё до мелочей…
— Так оно и есть, Ванюша, — сказал дед, обернувшись к Ивану-царевичу, а тот весело улыбнулся в ответ. Его больше не раздражала способность деда читать мысли, скорее наоборот – грустно было осознавать, что вот теперь уж никто тебя так не будет понимать, порой даже больше, чем ты сам.
— Не грусти по этому поводу, не расстаются люди, которые любят и доверяют друг другу.
— А как же Скоморох и Петушок… когда ты пойдёшь домой, как ты сказал? – Иван-царевич спросил это ещё и потому, что не хотел, чтобы дед видел невольную слезу на его щеке.
— Вот уж о ком беспокоиться меньше всего надо – эта парочка с радостью пойдёт на базар, дорогу они знают… Петух прекрасно может сидеть на спине осла, они не раз уже таким образом прогуливались до базара и обратно. Сам-то Скоморох когда-то выступал там перед честным народом – очень уж у него хорошо получалось притворяться, что из него дух вышел вон. Да ты и сам это знаешь. Я их закрывать не буду – пусть сами решат, когда им отправляться к людям. А еды у них и тут достаточно…
— А ты куда домой-то отправишься? Где тебя найти-то можно будет?.. – Иван-царевич едва сдерживал подступающий комок к горлу.
— А куда все люди в конце концов отправляются?.. Да ты не грусти так шибко, не расстаёмся мы с тобой. Ты всегда позвать меня сможешь, коли нужда у тебя во мне будет.
— Как позвать-то? Я даже имени твоего не знаю. Вот ведь как – всё тока о себе думал, о своих заботах…
— А нету у меня имени, Ваня. То, которое при рождении дали – уже давно ушло от меня. А нового никто не дал. Все звали меня дед, дедушка, дедуля… Я, когда на люди стал показываться, уже весь седой был – ну, дед и есть… А ты меня зови… Дед-гора. Как оно тебе?
— Дед-гора… А что… оно… годится… Ну, вылитый Дед-гора! – посмеялись они оба. А потом дед резко встал и сказал, что пора в путь-дорогу им обоим. Скоро уж и солнышко на западную половину переберётся, а Ивану-царевичу несколько вёрст до ближайшего селения сделать предстоит. Оно конечно на таком-то коне без труда добраться можно, но надо ещё и на ночлег устроиться и всякие хлопоты могут быть в дороге-то…
— Ступай, Ванюша, подымись вон на тот выступ, оттуда и помашешь мне напоследок. Знаю – это твоё любимое место, вот и полюбуйся ещё разок на море. Ступай, ступай…
Иван-царевич в большой печали отправился на свой любимый уступчик и больше не сдерживал слёз, которые градом катились по щекам. Добрался он до места, оглянулся и… открыл рот от удивления: его дед, Дед-гора – шлёпал прямо по морю, как по суше!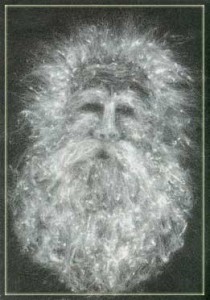
— Что, Ванюша, ты никак удивился маленько… Рот-то закрой, а то ворона влетит…
Дед был далеко от него, а Иван-царевич слышал его, как будто он рядом стоял.
— Ну вот – говорил же тебе, что не расстаются те, кто дороги друг другу. Захочешь поговорить – позови, потолкуем… Ну, давай и ты отправляйся… Конь-то твой заждался тебя…
Дед, а теперь – Дед-гора говорил с Иваном-царевичем, смотрел на него и как будто таял – становился всё меньше и меньше, а потом скрылся и вовсе в синеватой дымке над водой. А вода-то на море была такая тихая, гладкая… Иван-царевич никогда ещё море таким не видел. Он подумал, что таким оно бывает только тогда, когда по нему вот такой кудесник идёт…

